Культовый российский писатель Владимир СОРОКИН: «Впервые в парижском журнале я напечатался — это было время, когда гэбуха, зачистив все, занялась нами, обыски проводились. Готовился к худшему, но, к счастью, Андропыч дал дуба, пришел Горбачев и началась перестройка»

Вышедший из круга московских концептуалистов автор «Нормы», «Дня опричника», «Сахарного Кремля», «Теллурии», лауреат престижных российских и зарубежных литературных премий и просто классик современной словесности в последнее время занялся еще и живописью. На Венецианской биеннале этого года он представил полтора десятка своих картин и вместе с художником Евгением Шефом устроил перформанс.
«В ШКОЛЕ Я НАПИСАЛ ЭРОТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ, СКАЗАЛ, ЧТО ПЕРЕВЕЛ ЕГО С АНГЛИЙСКОГО, НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ ПОДМЕНЫ»
— Вам свойственно ностальгировать?
— Да, конечно!
— По какому времени?
— Это зависит от времени года и настроения. Постоянно плаваю в воспоминаниях, и с возрастом эта привычка нарастает. Что естественно — я уже не молодой человек, много разных времен повидал. Но я не могу назвать это ностальгией. Что называется, нахлынули воспоминания.
— Где приятных воспоминаний больше?
— В студенчестве, наверное...
— В Институте нефтяной и газовой промышленности? Простите за нескромный вопрос: как вас туда угораздило поступить? По всем признакам вы чистый гуманитарий...
— Просто этот институт находится в соседнем доме (смеется). Я прервал художественные занятия и упустил время. К тому же я не оканчивал художественную школу и не мог поступать в художественный вуз. Было одно соображение — не попасть в армию. Абсолютно советская причина. А уже на четвертом курсе я начал заниматься графикой. И мы с приятелем оформили нашу первую книгу — детектив. Автора уже не помню, а назывался он «Скорый» до Баку». Она вышла в издательстве «Московский рабочий». Это были очаровательные годы полного раздолбайства. А потом в 20 лет я попал в андеграунд и начался мой главный университет. Постепенно выбрал себе занятие.
— Кто на вас тогда имел влияние?
— Я познакомился сперва с Эриком Булатовым. В те годы его живописный мир метафизического соцарта был довольно сильным явлением. Через него я вошел в круг андеграунда, где уже сблизился с Некрасовым, Рубинштейном, Кабаковым, Приговым, Монастырским...
— Булатов ведь тоже много занимался книжной иллюстрацией.
— Это не было его сильной стороной. Они занимались иллюстрациями с Олегом Васильевым. Мучительно, надо сказать. Страдали над этими книжками, что чувствовалось. В отличие от Кабакова, у которого все получалось левой ногой. Кабаков — это океан. Я обожаю детские книги Кабакова и Пивоварова. У них это выходило легко и органично. А Эрик был такой танк, нацеленный на советскую идеологию, на ее атрибуты. Это являлось его главным объектом. Он не пластичный человек в этом смысле.
— Тем не менее книжная иллюстрация для многих художников являлась вынужденным занятием...
— Да, этим зарабатывали все. Гороховский, Кабаков, Булатов-Васильев, Ира Нахова, Никита Алексеев, Виктор Пивоваров, Маша Константинова, Сережа Мироненко — многие рисовали книжки. Хороший заработок, люди были обеспечены и по советским меркам жили хорошо. Многие имели машины, мастерские, где они не только могли заниматься искусством, но и устраивать чтения, например. Материально довольно благополучный круг. Это не питерская богема с портвейном и работой по ночам в котельной.
— И вы в нем оказались.
— Да, я попал в круг, наверное, самых интересных людей в Советском Союзе в то время. Московских концептуалистов сравниваю с ныряльщиками за жемчугом. Знаете, ныряльщики раньше опускались на дно в колоколах. И эти люди были таким колоколом озона в советском мутном воздухе. Я наглотался озона, началась эйфория (смеется). И состоялся в данном круге как литератор в начале 1980-х. (Раскуривает сигару). Можно мне немного попыхтеть?
Вообще, это абсолютно загадочная вещь — смена жанра. Дело в том, что я лет в 14 попробовал заниматься литературой. У меня получилось очень легко (смеется). Я сделал такую стилизацию. У нас в школе ходила тетрадочка с эротическими рассказами. Вы, наверное, такое уже не застали. Рассказ «Возмездие», приписываемый Алексею Толстому, — сцена в купе поезда. Рассказ «Баня» — абсолютно лубочный хардкор: барин и несколько девок предаются плотским утехам в бане. Еще была история из шведской жизни — с инцестом.
Тетрадка принадлежала одному парню, который имел некий авторитет. В общем, я написал эротический рассказ, сказал, что перевел его с английского, никто не заметил подмены.
— О чем был рассказ?
— Герои знакомятся на улице, в очереди за яблоками, представляете? (Смеется). А потом он ее преследует, врывается к ней домой, и там все происходит. Рассказик растворился в школе, и я к литературной эротике поостыл. Потом написал рассказ уже более серьезно.
Дело в том, что у нас была охотничья семья. Дедушка — лесник. И я решил написать об одном годе из жизни раненого тетерева. Как он с перебитым крылом выживал всю зиму, а весной крыло зажило и он полетел на тетеревиный ток. И послал его в журнал «Юный натуралист». Ответ был таким: «Написано неплохо, но очень длинно, и ничего нового о жизни этих замечательных птиц вы не сообщаете». А потом пошли стихи. Такие вполне себе декадентские. Но это уже лет в 17-18.
«СТУДЕНЧЕСТВО — ЭТО ПОСЛЕ УБОЖЕСТВА СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ СТАТЬ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
— Вы их уже никуда не посылали?
— Нет, конечно. Их бы никто не напечатал. Это было влияние Северянина, раннего Пастернака, Блока — смесь такая. А самый первый серьезный рассказ назывался «Заплыв», и он, в общем, довольно визуальный.
— Я хорошо его помню. Он переиздавался несколько лет назад.
— Вот он очень понравился Булатову и другим. И они меня благословили. Так что ностальгия — это все-таки студенчество и андеграунд. Они разные, конечно. Студенчество — это после убожества советской школы стать свободным человеком. Там я открывал рок-музыку.
— Кого слушали?
— С нами учился парень, который был мастером по настольному теннису. Он вернулся из Швеции и привез наборчик такой: Deep Purple, Led Zeppelin и Uriah Heep. И это было незабываемо.
— Stairway to Heaven?
— Да! Моя любимая группа в те времена была как раз Led Zeppelin!
— А тамиздат и самиздат читали?
— Мои родители были люди достаточно советские. Они дальше толстых журналов не шли. Боялись. Так что самиздат пошел уже позже. Иногда что-то мелькало в институте. Но в основном я это читал уже в андеграунде.
— Как к этому отнеслись родители?
— С опаской. Вообще, советский человек был сосудом всяческих страхов... Но я рано женился и стал самостоятельным человеком, я с женой Ирой зажил отдельно. Родители знали, что общаюсь с кругом подпольных художников, но в детали посвящены не были. Первый шок их настиг попозже, когда вышла статья в газете «Московская правда». Это был, по-моему, 1985 год — «Антисоветчина от А до Я».
Она была посвящена парижскому журналу «А-Я», где я впервые напечатался. И в статье упоминались «злобные фантазии В. Сорокина» (смеется). Это было время, когда гэбуха, зачистив все, занялась нами. Обыски проводились. Я готовился к худшему. Но, к счастью, Андропыч дал дуба, пришел Горбачев и началась перестройка.
— Давайте теперь поговорим о настоящем — насколько вам в нем комфортно? Есть две приметы настоящего: сериалы и соцсети. Как я понимаю, они вам неинтересны?
— Я не погружен ни в то, ни в другое. Могу зайти через Иру в Facebook, но это редко бывает. У меня нет в этом потребности. Сериалы... Я посмотрел «Рим», «Игру престолов», что-то еще, уже не помню. Однако с какого-то момента ты видишь, что фильм вырождается в рутину. Я понимаю сценариста и режиссера, которым надо зарабатывать. Но все же предпочитаю классический кинематограф.
— Соцсети — еще и ведьмин котел языка. Это же, по сути, «Очередь», только нашего времени.
— Я иногда читаю блоги. Там есть вещи, которые не могут не радовать. Я сейчас говорю о чисто лингвистической или даже литературной радости. Такое испытание языка на прочность, мутация. Но удручает уровень агрессивности людей. С другой стороны, это порождает новые языковые эксперименты.
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СТЕНОБИТНОЙ МАШИНЫ ВРЕДИЛО ЕЙ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА»
— Еще одна примета настоящего: многие писатели заняли активную гражданскую позицию, участвуют в общественных и политических дискуссиях. Как вам кажется, это полезная практика для писателя?
— Использование литературы как стенобитной машины вредило ей во все времена. Вспомним шестидесятников — что от них осталось? У меня есть своя гражданская позиция, но я не люблю толпу. Поэтому я на митинги не хожу и не пошел гулять с писателями по бульварам. Гулять хорошо вдвоем, когда ты слышишь собеседника. Любая толпа не вызывает во мне желания к ней присоединиться. Мне кажется, писатели, которые так активно лезут выступать, что-то недописали. Или уже не могут это сделать. Набоков, Джойс, Кафка митинговать бы не полезли. Не могу представить Сашу Соколова или Пелевина, обращающихся к толпе.
— На ситуацию можно взглянуть с другой стороны: писатель в гуще событий, все видит своими глазами. Тут можно вспомнить писателей-революционеров, писателей-фронтовиков...
— Среди них не было великих писателей. Толстой описал Бородино, спустя 50 лет. Даже если взять старика Хэма, Нормана Мейлера, Воннегута, Ремарка, Астафьева... Это не великая литература. Я не верю, что писатель, приобретя опыт на войне или отсидев в тюрьме, станет от этого лучше писать. Мне кажется, что фантазии первичнее опыта. Возможно, это моя личная утопия.
— А может, тогда дистанция должна быть совсем велика? И русскому писателю лучше работать не в России?
— Это разные вещи — участвовать в войне и писать о ней или уехать в Италию и писать там «Мертвые души». Последнее как раз нормально и очень помогает — не видеть объект. Что отличает любителей шахмат от профессионалов? Последним не надо смотреть на доску.
Если вы помните «Защиту Лужина», там героя всегда раздражали деревянные фигуры. Шахматист видит не фигуры, а некую энергию и потенцию каждой фигуры. Для него шахматная партия — столкновение энергетических феноменов. Они видят это не как натюрморт, а как процесс. И если взять Гоголя, Достоевского, Тургенева — им окружающая Россия тоже часто мешала сосредоточиться, раздражала (смеется). Это нормально. Я придумал идею «Льда» в Японии в очень жаркий месяц. «Метель» я начал в Берлине в сопливое межсезонье.
«С 20-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА Я БЫЛ УБЕЖДЕННЫМ АНТИСОВЕТЧИКОМ И НЕНАВИДЕЛ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ»
— Когда вышел ваш «День опричника», вы говорили, что в вас проснулся активный гражданин. Что с ним сейчас?
— Не могу сказать, что он очень бодрствует. А если серьезно, то с 20-летнего возраста я был убежденным антисоветчиком и уже тогда понимал, что нормальный человеческий мир — это европейская демократия. С тех пор не изменил этому убеждению. С «Опричником» было более акцентуированно, потому что жанр диктовал.
Наверное, когда страна катится по наклонной, трудно уберечь в себе гражданина (смеется). Гражданин из тебя вываливается! Звучит двусмысленно, да? Возможно, это проявление малодушия... Навальный меня осудит. Но я давно понял, что нельзя быстро изменить ментальность народа. И дело не в смене правительства. Европейцы давно уже живут в мире, где им служит государство. А в России мы сотни лет служим государству. Это главное онтологическое отличие. Все остальное — частности. Здесь государство — Молох, который постоянно требует от населения жертв на всех уровнях.
— А еще вы кто? Горожанин?
— Я родился в Подмосковье. Здесь сейчас и живу.
— То есть вы, по сути, лесник, как дед?
— Нет, к сожалению. В лесу я бы не прожил долго — мозги уже не те. Нет дедушкиной чистоты. Мы не можем обойтись без цивилизации. Три дня без интернета — и уже ломка начинается... Я, наверное, горожанин.
— Москвич?
— В Москве я стараюсь редко бывать. Этот город потерял лицо в последнее 20-летие, и мне в нем некомфортно. А вот в Берлине — да. Это очень приятный просторный город. Спокойный. Он, как и Нью-Йорк, готов принять всех. Не делит людей на своих и чужих.
— А как же старания московских властей повернуть город лицом к жителю? Велопрокат, парки, пешеходные зоны... По Крымской набережной вы гуляли?
— Ночью, ночью! Тогда нет машин... Да везде я гулял. Проблема в том, что Москва, как и в советское время, не город, а государство в государстве. Город государственной власти. В нем очень сильна угрожающая государственная энергия — я чувствовал ее еще ребенком, когда гулял по Красной площади.
— На Красной площади недавно провели книжный фестиваль — попытались вернуть мемориальное пространство читателям и писателям.
— Да-да. Но ничего не получается. В этом городе на каждом шагу чувствуешь, что ты незваный гость. А хозяин — государство, которое в любой момент может что-то сделать с твоей квартирой, машиной, тобой на улице. Чем отличается Берлин от Москвы? В Москве пролегает экзистенциальная граница между твоим приватным пространством и внешним, городским. Каждый раз, выходя из собственного уюта, ощущаешь границу: выходишь на улицу и понимаешь, что здесь твой уют заканчивается — его никто не учитывает. В Берлине нет этой границы вообще. Ты вышел на улицу, и там действуют те же законы, что и у тебя в квартире. И в этом колоссальная разница.
— Хорошо, давайте поговорим о будущем, которое в России нередко опрокинуто в прошлое.
— (Смеется). Да, и эта опрокинутость во многом определяет оторопелое выражение лица российского настоящего.
— Вот недавно был принят закон о праве на забвение. С одной стороны, он ничего не меняет, потому что и так никто не помнит ни истории как таковой, ни истории общественной и философской мысли.
— Да-да!
— С другой — это легальный способ стереть историю. Идея обнуления истории к чему может привести? К построению будущего на мифе?
— Да, если бы это была чистая идея. Но у нашей власти чистых идей не бывает. Идея у нее одна — использовать новую идею для идеи сохранения себя! И законы ее поддерживают. Отсюда такое желание переписать прошлое. Помните, у Оруэлла: кто управляет прошлым — тот управляет будущим. Так что это просто будет еще одна бетонная плита в пирамиду власти.
«МЫ ЖИВЕМ В ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОСВЕЩЕННОМ СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОСУДАРСТВЕ»
— «Повесть временных лет» — тоже выгодный для власти документ. Просто для тогдашней власти.
— А мы и живем в относительно просвещенном средневековом государстве. Так что тут удивляться, что вымарывались и подделывались страницы летописи?
— Ваше персональное будущее вам видится каким?
— К счастью, я внутренне не взрослею и не чувствую возраста. Поэтому будущее для меня по-прежнему tabula rasa. Не знаю, что буду делать. Я недавно задумался, а какая у меня, собственно, профессия? Чем я вообще занимаюсь?
— Вы как-то сказали, что являетесь не только художником-оформителем, но еще и готовите хорошо, следовательно, в жизни не пропадете.
— (Смеется). Да, я хотя бы не буду голодным. Если есть продукты, конечно. Но я все больше убеждаюсь, что писатель — это никакая не профессия. Это некоторое занятие. Во многом вынужденное, связанное с особенностью твоей психосоматики. Как сказал Элиот, по-моему, литература пишется не для того, чтобы создать переживание, а чтобы поскорее от него избавиться. А какая это, к черту, профессия — избавляться от переживаний?
— Это терапия?
— Ну да! Но социум платит за это деньги, поддерживая в писателе иллюзорную уверенность в серьезности его занятий. Значит, и читателям приходится с помощью книги частенько избавляться от своих переживаний, фантазий и надежд.
— Чем вы заняты в данный момент?
— Я сейчас отдыхаю. Много ездил в этом году: был на трех литературных фестивалях: два в Италии и один в Польше. В Италии мой «Опричник» получил премию Грегора фон Реццори. Еще была выставка в Венеции. Ее подготовка, завоз работ, монтаж, перформанс, демонтаж — это много хлопот. Вообще, более неприспособленный город для выставок художественных работ, чем Венеция, трудно представить. Картины нужно завозить на лодках! Но это уже часть истории искусств (смеется).
— Вы не раз говорили, что слово сейчас вам интереснее рисунка. И вдруг написали 15 картин маслом. Что произошло?
— Да трудно объяснить. Вначале была идея вполне простая: у нас в новой берлинской квартире белые стены. Мне хотелось что-то на них повесить. И я решил написать картину маслом. Поехал в огромный магазин Boesner. Это рай для художников — там есть все. Я вспомнил, как в 70-е годы доставал колонковые кисти, голландскую гуашь у спекулянтов, нельзя было купить хороший холст... Навернулись, надо сказать, слезы в этом магазине (смеется). Я купил краски, подрамник с холстом, все, что нужно, и набросился на холст.
Идея вернуться к живописи перманентно всплывала у меня в сознании. Я пытался понять, почему это случилось. Наверное, что-то было не реализовано в юности. Я не успел в живописи развернуться, как литература снесла все.
— Вы ребенком учились в художественной школе?
— Нет, это была такая элитная изостудия при ГМИИ имени Пушкина.
— Она до сих пор существует?
— Да. И я с девяти лет ходил туда каждое воскресенье на протяжении четырех лет. Там работали очень хорошие педагоги, они заложили основу. А потом, в начале 1970-х, я начал сам уже заниматься графикой. К тому же общался с ребятами, которые учились в художественных вузах. Позднее мы с одним из этих приятелей оформили ту самую книгу. И пошло...
Я тогда занимался графикой, потому что живопись — это все-таки довольно большая затея. Для нее нужна мастерская. У меня ее никогда не было — я работал всегда дома. А для графики нужен лишь лист бумаги, тушь, перо, гуашь. И в 70-80-е я зарабатывал себе этим на жизнь.
— И оформили порядка 50 книг.
— Да. Это было очень приятное занятие, надо сказать. Не надо было ходить на работу. В совке это дорогого стоило. Встаешь утром неспешно, пьешь чай, смотришь в окно, где хмурые люди набиваются в автобус... Счастье! Я довольно быстро делал заказы. И в свободное время занимался литературой.
— Вы поехали и купили краски, потому что берлинский дом позволил поставить мольберт и писать маслом?
— Да, у меня в Берлине довольно просторный белый кабинет. И в нем я за два года написал 15 картин.
— В какой момент стало понятно, что получается большее, чем украшение интерьера?
— На второй-третьей картине. А потом возник этот проект. Мы с художником Женей Шефом сделали павильон «Теллурия». И роман помог, конечно.
— Когда-то вы мне говорили, что книга должна быть самодостаточна. И вдруг 15 картин по мотивам «Теллурии». А могли бы и симфонию написать...
— (Смеется). У меня не абсолютный слух. Скорее всего, меня инспирировал Берлин. Это же такой центр культуры. И не надо забывать, что после «Теллурии» мне третий год как не пишется. Я не делал раньше таких конструкций, как этот роман. В нем есть некая тотальность. Видимо, это для автора не прошло даром и выдох после него еще не закончился.
Все совпало, как это обычно бывает: белые стены, новое место, желание вернуться к холсту и краскам и временная пауза.
— Когда вышла «Теллурия», вы говорили, что описать современный мир линейным романом сейчас невозможно. А может, следует пойти еще дальше? Единый художественный язык невозможен, и настала эпоха нового синкретизма?
— А это ведь уже случилось. Если взять современное искусство, то становится понятно, что оно синкретично. Но мне-то как раз хотелось бросить этому вызов, архаически отстоять живопись как таковую, потому что ее уже сожрала сумма арт-технологий. Сейчас, мне кажется, стоит вернуться к жанровой чистоте.
— Я знаю, как вы не любите выступления перед публикой. И тут — перформанс.
— Ну это же не банальное выступление писателя перед публикой, а художественный акт. Не театр, не капустник. Это вещь другого сорта: взаимоотношение с искусством, а не с публикой.

 Мама Миллы ЙОВОВИЧ актриса Галина ЛОГИНОВА: «Когда дочь ушла от Люка Бессона, замок, который они пополам покупали, оставила ему, потому что чувствовала себя виноватой»
Мама Миллы ЙОВОВИЧ актриса Галина ЛОГИНОВА: «Когда дочь ушла от Люка Бессона, замок, который они пополам покупали, оставила ему, потому что чувствовала себя виноватой» Жена актера Николая КАРАЧЕНЦОВА Людмила ПОРГИНА: «Вы нас во взрыве «боинга» обвиняете? Тогда берите газ где хотите, пускай вам Америка высылает и Европа снабжает»
Жена актера Николая КАРАЧЕНЦОВА Людмила ПОРГИНА: «Вы нас во взрыве «боинга» обвиняете? Тогда берите газ где хотите, пускай вам Америка высылает и Европа снабжает» Телеведущий, поэт и шоумен Петр МАГА: «Не президент надавил на «1+1», чтобы выгнать Шустера, а другой высокопоставленный политик — второй человек в государстве»
Телеведущий, поэт и шоумен Петр МАГА: «Не президент надавил на «1+1», чтобы выгнать Шустера, а другой высокопоставленный политик — второй человек в государстве» Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Я жила в стране, где с детства учили умирать, говорили, что человек существует, чтобы пожертвовать собой»
Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Я жила в стране, где с детства учили умирать, говорили, что человек существует, чтобы пожертвовать собой» Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Со страной, похоже, дела обстоят еще херовее, чем кажется, — количество путинских лет перешло в качество»
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Со страной, похоже, дела обстоят еще херовее, чем кажется, — количество путинских лет перешло в качество» Культовый российский писатель Владимир СОРОКИН: «Впервые в парижском журнале я напечатался — это было время, когда гэбуха, зачистив все, занялась нами, обыски проводились. Готовился к худшему, но, к счастью, Андропыч дал дуба, пришел Горбачев и началась перестройка»
Культовый российский писатель Владимир СОРОКИН: «Впервые в парижском журнале я напечатался — это было время, когда гэбуха, зачистив все, занялась нами, обыски проводились. Готовился к худшему, но, к счастью, Андропыч дал дуба, пришел Горбачев и началась перестройка»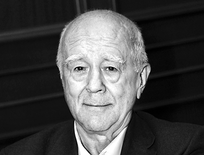 Мы давно не имели своих Маргарет Тэтчер
Мы давно не имели своих Маргарет Тэтчер Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги